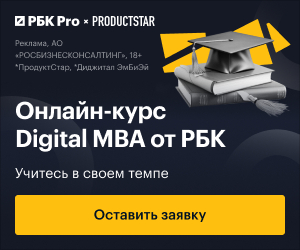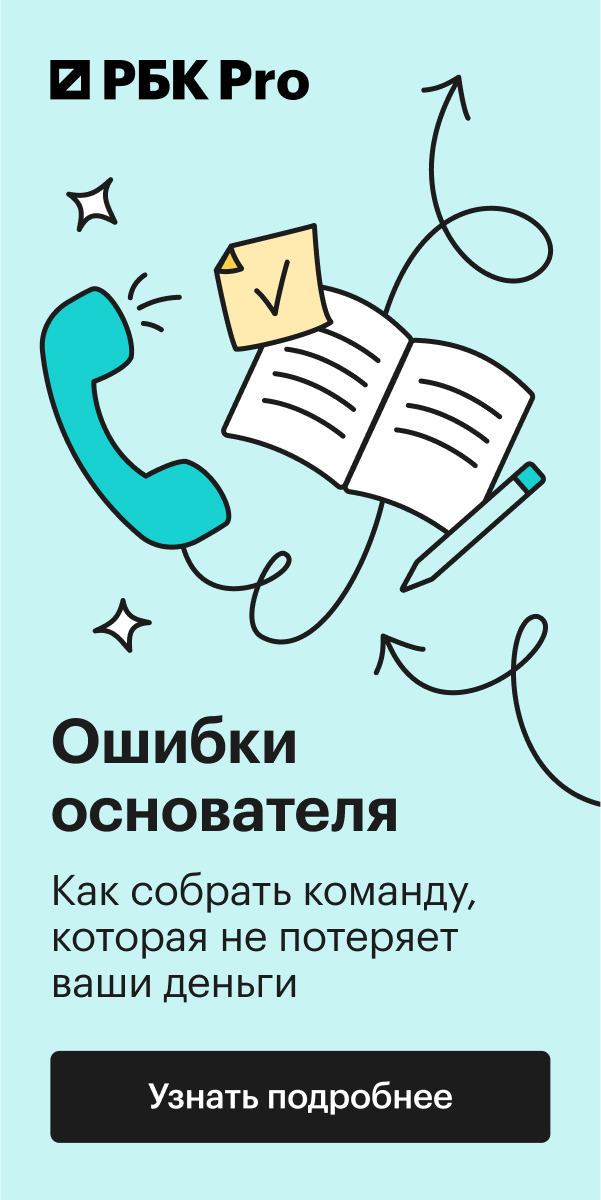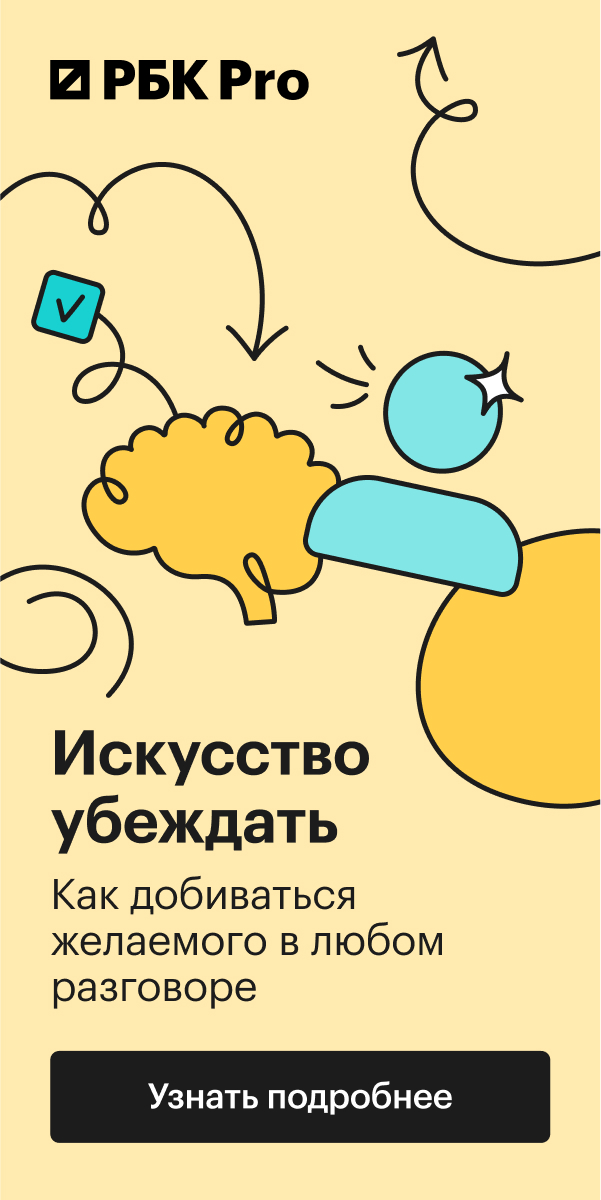«Востокгосплан»: нельзя мерить все ТОР одной меркой

Преференциальные режимы Дальнего Востока функционируют недостаточно эффективно и не в полной мере достигают целей, ради которых были созданы. Такой вывод сделала Счетная палата. Однако, не все согласны с оценкой аудиторов. На претензии в эксклюзивном интервью РБК Приморье ответил директор Восточного центра государственного планирования (ФАНУ «Востокгосплан») Михаил Кузнецов.
– Михаил, давайте по порядку. Одна из претензий Счетной палаты в том, что префрежимы не образуют единую систему мер поддержки развития регионов ДФО. Я процитирую: «Управлением занимаются различные федеральные и региональные органы, а законодательные акты, регулирующие их работу, предусматривают разные подходы к оценке, мониторингу и контролю их деятельности. При этом льготы и меры поддержки в большинстве префрежимов однотипны и сводятся к поддержанию инвестиционной активности»
– Внедрение префрежимов на самом деле не предусматривало установления каких-то узко направленных мер поддержки. Я напомню, что, когда было принято решение о введении трех префрежимов, на Дальнем Востоке инвестиции сокращались, при этом в Российской Федерации в целом они росли. И, конечно, на Дальнем Востоке, – это далеко не секрет, – затраты бизнеса на ведение деятельности гораздо выше. Это и транспортные тарифы, это и особенности географического положения, и энергозатраты, затраты на оплату труда. И поэтому льготы были, прежде всего, всегда ориентированы на стимулирование инвестиционных вложений и создание новых рабочих мест, а это, в свою очередь, как раз способствует притоку населения, росту населения на Дальнем Востоке. Поэтому направления самих префрежимов унифицированы, то есть задача была снизить затраты инвестора, позволить ему вложить разницу, получаемую экономию в реализуемый проект за счет налогов на землю, имущество, прибыль. И при этом за счет этих мер поддержки ускорить возвратность средств, повысив тем самым инвестиционную привлекательность Дальнего Востока в целом. И я уверен, и на цифрах могу доказать, что мы эту задачу на самом деле решаем.
– В данном случае, претензия к отсутствию единого подхода.
– Да. Я вот как раз к этому и веду. Нет такого режима, который не надо было бы совершенствовать. Конечно, дальнейшее совершенствование префрежимов может предполагать различные механизмы приоритизации, направленные, например, на стимулирование инвестиций в технологическое развитие, то есть мы прошли какой-то первый этап, нужно переходить ко второму. А что касается разных подходов к оценке, мониторингу и контролю, скорее всего, здесь претензия к действующей системе контроля. У нас, видите, есть Счетная палата, прокуратура, другие надзорные органы. Иногда на одного инвестора приходится несколько проверяющих. Это тоже нормально, но тут нужно соблюдать разумный баланс.
– Аудиторы остались недовольны и эффективностью отдельных префрежимов. В частности, префрежим на Курильских островах не показал ожидаемых результатов: 29% участников не осуществляют деятельность, а остальными привлечено чуть больше 4% запланированного объема инвестиций.
– Вот вы знаете, Курильские острова — это проект не только экономический, но и геополитический. И к тому же надо учитывать, что условия жизни и работы на островах достаточно трудные. Небольшая численность населения, высокие издержки ведения бизнеса. Хотя бы добраться до Курильских островов – это уже проблема, я в свое время наскоком решил туда приехать и понял, что билеты нужно покупать сильно заранее. Поэтому нужно большее время для раскачки проектов. Вот треть участников не осуществляет деятельность, но сегодня достаточно трудно изыскать заемные средства. Я напомню: у нас ключевая ставка повышалась восемь раз – с 7,5 до 21%. И выросли риски ведения экономической деятельности, поскольку есть и санкционные риски по целому ряду отраслей, есть трудности в логистике, в поставке оборудования. Поэтому я скорее эти цифры отношу к последним трем годам достаточно сложным для ведения бизнеса. Кроме того, выросли налоги, существенно увеличилась конкуренция на рынке труда. Мы гордимся сегодня низкой безработицей в 2,8%, но на самом деле это – проблема для бизнеса, потому что сложно найти кадры, особенно на таких удаленных и труднодоступных территориях. Не все зависит от нас, многое зависит от текущих условий ведения бизнеса.
– Еще одна претензия: ТОР, расположенные в крупнейших городах ДФО, демонстрируют недостаточные показатели улучшения инвестиционной активности. Например, вклад ТОР «Приморье» в общий объем инвестиций по Владивостоку и Надеждинскому району составляет всего 4,3%. В то время, как вклад ТОР «Чукотка» – 67%, а ТОР «Амурская» – больше 70%. При этом резиденты получают одинаковые льготы и преференции. Почему так? Вы сейчас скажете, что есть объективные причины – геополитическая ситуация, санкции…
– Вовсе нет. Здесь я поспорю с уважаемыми коллегами из Счетной палаты, поскольку, мне кажется, вообще нельзя с одной меркой подходить к различным ТОР. Нужно смотреть в корень. Я даже с общего начну вопроса: хотим ли мы, чтобы у нас в префрежимах было 100% экономики, и чтобы они не платили какое-то время налоги в региональную казну? Ну, вряд ли. Мы скорее хотим, чтобы в ТОР появлялись новые мощные, интересные производительные инвестиционные проекты и новые производства. Если у нас цель такая, то давайте посмотрим на различия наших территорий. В Амурской области и Чукотском автономном округе речь идет об огромных проектах, таких как АГПЗ. В освоение Баимской рудной зоны на Чукотке вложено 58 млрд руб. при общем объеме инвестиций в экономику – 87 млрд. Отсюда эти волшебные цифры. Сахалинская область — это большая моноотраслевая экономика – доля нефтегазодобычи более 60%, поэтому там превалируют вложения как раз в эту сферу. И посмотрим на Владивосток: это тоже большая экономика, но намного более диверсифицированная, инвестиции разнонаправленные, и они конкурентны. Я бы не стал здесь складывать экономику Владивостока и Надеждинского района, вот объем инвестиций на территории Владивостока более 200 млрд руб., а в Надеждинском районе около 7 млрд, из которых в ТОР – 5, то есть около 70% по Надеждинскому району. Ну и потом речь идет о том, чтобы конкретно в Надеждинском районе поддерживать дальнейшую диверсификацию и повышение технологичности экономики Приморья, поэтому тут немножко разные задачи. Нельзя одной меркой оценивать регионы с мега-проектами и регионы с диверсифицированной экономикой.
– Дальнейшая судьба резидентов и их налоговых отчислений также беспокоит аудиторов. Большинство налоговых льгот в режимах ТОР и СПВ действуют в течение 10 лет. То есть в ближайшие годы у многих резидентов льготный период закончится, и они могут прекратить работу. По мнению Счетной палаты, целесообразно установить мониторинг за их деятельностью. Вы согласны?
– Категорически не согласен. Это какой-то, знаете, нездоровый патернализм. Мы предоставили бизнесу стартовую площадку, он раскрутился, реализует свои проекты. 10 лет – совершенно немалый срок. Если он выжил за это время, то выжил – молодец, не выжил, прекратил свое существование – ну и бог с ним, придут новые бизнесы. Так экономика, собственно, и устроена, то есть бизнесы должны рождаться, должны умирать для того, чтобы дать дорогу новым, более конкурентным, более сильным бизнесам. Это, извините, процесс естественного отбора. Тут хлопать крыльями над каждым бизнесом – занятие бессмысленное и даже вредное.
– Одна из основных претензий Счетной палаты касается финальных целей префрежимов: при создании ТОР оказался не зафиксирован требуемый итог работы – экономический и бюджетный эффекты для субъектов РФ.
– Вы знаете, не надо, мне кажется, здесь тоже переживать. Мы постоянно в «Востокгосплане» оцениваем накопительный эффект от префрежимов. И что мы видим на сегодня? Согласно оценке эффективности налоговых расходов, которая проводится при координации Минфина, налоговые льготы положительно влияют на динамику экономических показателей. В 2023 году, например, резиденты ТОР обеспечили 16% всех инвестиций ДФО, СПВ – 4%. И на сегодня, если сравнивать, например, эффективность ТОР и прямого стимулирования процентов, ну, допустим, субсидирования ставки по инвестиционным кредитам, то субсидирование ставки будет проигрывать с большим отрывом, то есть оно было бы намного более затратным для бюджетной системы. И на сегодня налоговые поступления от получателей по большей части льгот превышают объем выпадающих доходов. Это прямое свидетельство и, так сказать, критерий эффективности накопительных итогов.
– Претензия в том, что итог, цель не была зафиксирована изначально. Счетная палата ее не увидела.
– Главное, что мы оцениваем этот накопительный итог, и в дальнейшем, при введении новых льгот, конечно, можно более точно планировать ожидания от реализации конкретных мер. На мой взгляд, самое главное, что инвестиции растут, вклад растет. Каждый 10-й рубль вкладывается на Дальнем Востоке, в стране. Я напомню, что экономика у нас – это 6%, а вложения инвестиционные – 10% и даже более. И это, наверное, самый главный показатель, то есть мы достигли опережающего роста инвестиций в целом на Дальнем Востоке. Это залог того, что наша экономика будет расти опережающими темпами, значит мы будем выполнять указанные цели 427 Указа.
– Счетная палата сочла деятельность КРДВ и его дочерних обществ в части управления префрежимами ДФО недостаточно результативной. Так, корпорация не в полном объеме использовала субсидии, предоставленные в 2021-2023 годах на развитие инфраструктуры ТОР. Сроки выполнения отдельных мероприятий неоднократно переносились, а на счетах КРДВ и ее дочерних структур на 1 января 2024 года остались неиспользованные средства на сумму 14 млрд руб. Претензия обоснована?
– Вы знаете, тут есть две стороны вопроса. Во-первых, прямо в самой претензии сказано «обусловлено несоблюдением резидентами и ресурсоснабжающими организациями сроков выполнения мероприятий по техприсоединению» и так далее. К сожалению, весь институт техприсоединения и вообще ввода инфраструктуры в стране нуждается в серьезной реорганизации, в совершенствовании, потому что сроки адские. Когда я сам вижу, что дорогу в полтора километра делают два года, у меня начинается зубной скрежет. Такого не должно быть с проектированием, с согласованиями. Это безумие, это надо все прекращать. И посмотрите на соседний Китай, там за ночь могут ввести мост. Вот нам надо к таким темпам стремиться, но при соблюдении, тем не менее, всех правил и политики в отношении безопасности, безусловно. Но это надо делать быстрее. Применять цифровые технологии, может уже искусственный интеллект нам поможет сократить все эти безумные процедуры.
– Но кто это должен делать?
– Здесь часть вопроса – это сами процедуры, часть проблемы – это опять же перенос сроков в связи с ухудшением экономической обстановки со стороны отдельных резидентов, и часть это, безусловно, необходимость совершенствования процедур самого КРДВ в скорости и в качестве работы такого заказчика по ряду проектов. Здесь, конечно, нет предела совершенству, мы за замечание в этой части благодарны. Здесь, мне кажется, нужно на эту тему более эффективно работать, в том числе.
– Если работу с ТОР и СПВ Счетная палата предлагает скорректировать, то режим региональных инвестпроектов вообще упразднить. Вы можете признать, что РИП – неудачный проект?
– В отношении РИП мнение Минвостока и КРДВ – сейчас этот режим нужно оставить. Ранее мнение «Востокгосплана» было более созвучно выводам Счетной палаты, исходя из общей эффективности режима, но на фоне роста рисков экономической деятельности, санкций, ключевой ставки, увеличения налогов, с учетом всех эти обстоятельств, сейчас сохранение РИП – это способ компенсации возрастающих издержек инвесторов и возможность сохранить темпы роста инвестиций. Поэтому я бы здесь был более аккуратен, во всяком случае, в ближайшее время.
– А чем руководствуется Счетная палата, почему предлагает упразднить этот префрежим?
– Они сравнивают количество и качество – отдачу от различных префрежимов. И у них понятная такая логика аудитора – оптимизировать эти режимы по количеству, по составу. Поэтому, наверное, в какой-то перспективе об этом стоит подумать, но не сейчас. Лучше тех инвесторов, которые продолжают свою деятельность и продолжают реализовывать свои проекты, поддержать всеми возможными способами.
– Одна из рекомендаций аудиторов – подготовить изменения в законодательство, направленные на совершенствование преференциальных режимов. Что, по-вашему, нужно усовершенствовать для повышения эффективности ТОР и СПВ?
– Во-первых, мне кажется, в приоритетном порядке нужно льготировать развитие вторичных специализаций так называемых, то есть вторых переделов, назовем так. То есть от добычи мы должны перемещаться в экономике вверх по цепочке создания стоимости. Зачастую есть хорошие примеры, когда в зависимости от ассортимента, состава второй передел с сырьем может увеличивать добавленную стоимость в несколько раз. Значит будет расти экономика, будет расти качество и количество высокопроизводительных рабочих мест. Вот пример: у нас реально готовится к освоению Томторское месторождение редкоземельных металлов. А они, как вы знаете, сейчас на слуху у всех, идет большая торговля по всему миру, в разных регионах в отношении редкоземов. Так вот, Томтор – это одно из крупнейших в мире месторождений, прогнозные ресурсы более 154 млн т руды с высоким содержанием оксидов десяти редкоземельных элементов. Достаточно уникальные характеристики у этой руды. И в зависимости от ассортимента там цены будут, в любом случае, десятки тысяч долларов за тонну. И если продумывать заранее не продажу руды, как у нас иногда бывает, или там первого передела, а продажу изделий, наша экономика может очень сильно и быстро на этом развиваться. Это только один из примеров. Во-вторых, конечно, важна переориентация льгот и преференций для ТОР и других инвестиционных проектов со стимулированием прямой добычи к внедрению технологических инвестиций, то есть конечной продукции с высокими пределами. Даже если говорить про лес, кругляк, слава богу, мы перестали продавать, но, если мы просто доски продаем, это тоже не очень большое достижение. Нужно идти в сторону фанеры, мебели и так далее, то есть общая логика префрежимов должна следовать за стимулированием создания продукции высоких переделов. В-третьих, как мне кажется, нужно законодательно определить действительно незыблемые гарантии поддержки долгосрочных вложений. Не нужно слишком часто менять правила игры, инвесторов это расстраивает, они не могут четко планировать фазу ввода производства и его дальнейшего масштабирования, поэтому нужно здесь правила игры закрепить. И в завершение: префрежимы могут сконцентрироваться в дальнейшем на проектах приземления эффектов транзитного потенциала макрорегиона, – у нас же большую роль играет логистика, транспорт, – за счет развития, стимулирования мелких производств по складированию, упаковке, хранению и такой неглубокой переработке. У нас много точек соприкосновения с нашими партнерами зарубежными, и в регионах пограничных в том числе, уже создаются, кстати говоря, склады, обрабатывающие центры. Вот это всячески нужно поддерживать. Это очень хороший для региона экономический задел на будущее.